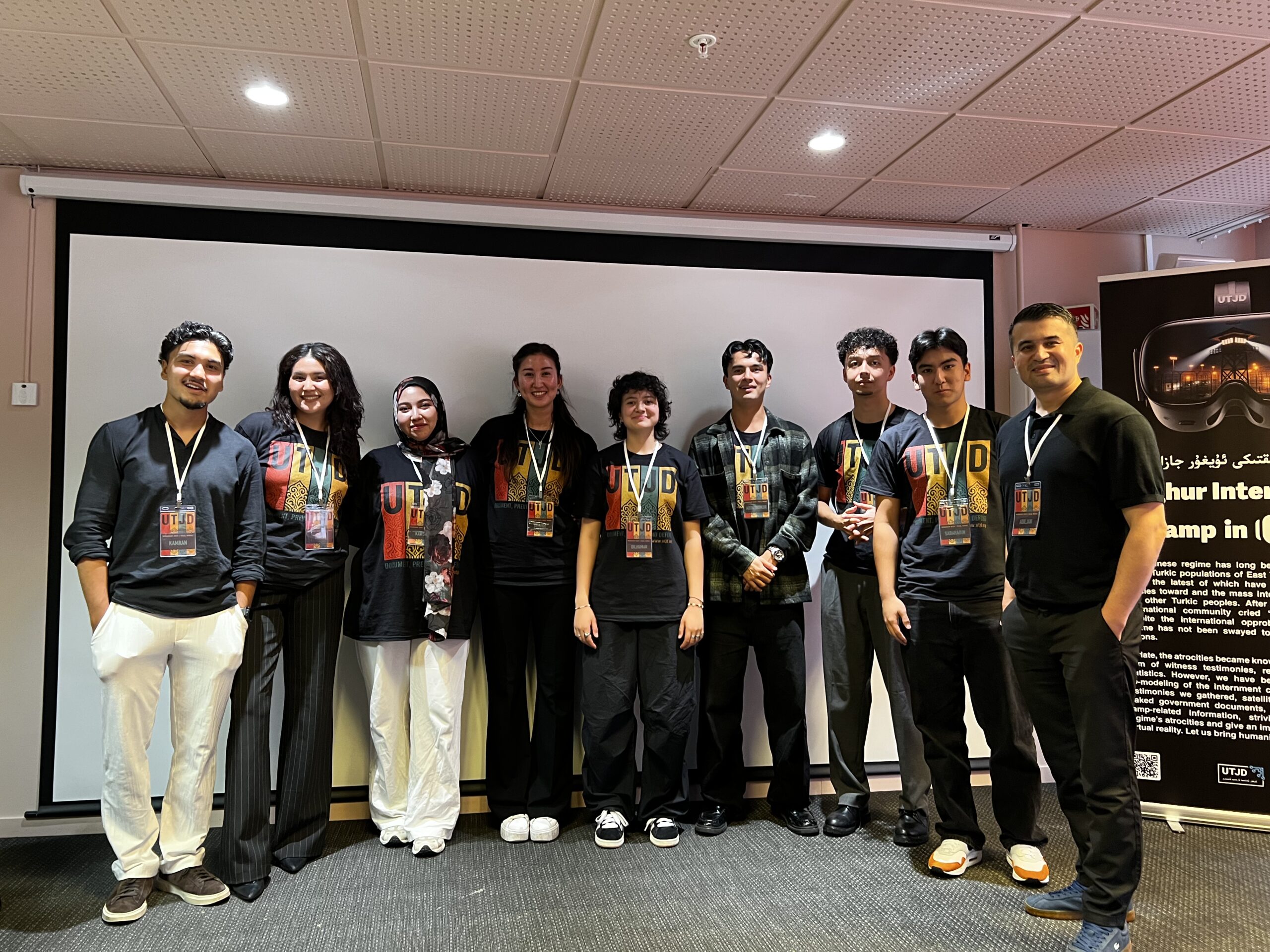Образование Китайской Народной Республики (КНР) в 1949 г. ознаменовало начало новой эры угнетения Восточного Туркестана, а также Тибета и остальной части Китая.
Установив свою власть в Восточном Туркестане, Коммунистическая партия Китая (КПК) осуществила широкомасштабную программу переселения ханьцев в Восточный Туркестан, что привело к быстрым демографическим изменениям в отношении не-ханьского и ханьского населения. В 1949 г. общая численность населения Восточного Туркестана составляла примерно 4,2 млн. человек, но к концу 1979 г. ханьцы составляли примерно половину от общей численности населения в 11 млн. человек (McMillen 1981, 66). В другой статистической перспективе: «Между 1940 и 1982 гг. доля ханьцев в населении [Восточного Туркестана] увеличилась на целых 2500 %, … в то время как уйгурское население придерживалось более естественных темпов биологического роста в 1,7%» (Gladney 2004, 112-113).
Консолидация власти КПК в Восточном Туркестане завершилась формальным созданием в 1954 году Производственно-строительного корпуса (ПСК, 兵团, bingtuan), который состоял в основном из демобилизованных солдат Народно-освободительной армии (НОАК) Китая. Войска Республики Восточный Туркестан, состоящие преимущественно из уйгуров и казахов, также известные как Илийская национальная армия, были включены в состав НОАК, и многие из них были демобилизованы и передислоцированы в сеть военизированных ферм (предшественник ПСК), над которыми КПК имела полный контроль (McMillen 1981, 68). Согласно Клиффу (2020, 3), КПК была создана как «военно-сельскохозяйственная колония» и была главной движущей силой миграции хань и трансформации культурного ландшафта в Восточном Туркестане. До настоящего времени КПК продолжает вербовать все больше ханьцев из внутренних районов Китая в Восточный Туркестан и заманивать их социальными благами, которыми в значительной степени не пользуются уйгуры и другие тюркские народы.
Спонсируемая государством миграция ханьцев в Восточный Туркестан, политика, которая присутствовала в Цяньлун и более поздний цинский периоды, была и остается одной из самых эффективных политик Коммунистической партии Китая, создав стойкий ханьский электорат, который рассматривается партией как надежная сила стабильности в Восточном Туркестане. Это обоснование, хотя и присутствует в некоторых докладах о внутреннем распространении, и признано местными партийными чиновниками, никогда не было официальным обоснованием для поощрения массовой иммиграции ханьцев, в то время как потребность в рабочей силе для развития была официальным обоснованием партии, представленным общественности (Bovingdon 2010, 54).
В 21-м веке КПК превратилась в корпорацию, позволяющую ей добиваться все более прямого контроля над Восточным Туркестаном (Cliff 2009, 102). Более того, сегодняшняя КПК «сохраняет лишь отдаленную связь с [Народно-освободительной армией]» (там же, 101). КПК по своей сути продолжает увековечивать оккупационно-колонизаторскую функцию (Cliff 2009).
Yi (2019, 54) утверждает, что коренная причина продолжающегося преследования миллионов уйгуров и других тюркских мусульман в Восточном Туркестане может быть отнесена к «китайскому поселенческому колониализму», который разворачивается через Производственно-строительный корпус (ПСК) и миграцию этнических ханьцев в регион.
Центральное правительство в Пекине предоставило Восточному Туркестану статус «автономии» в 1955 году, что отражено в его официальном китайском названии: 新疆维吾尔自治区 (Синьцзян-Уйгурский автономный район). Тем не менее, деятельность Агентства по независимым действиям по внутренним делам в Восточном Туркестане была обречена на провал, поскольку Коммунистическая партия Китая (КПК) никогда не собиралась предоставлять подлинную автономию Восточному Туркестану. Лидеры Коммунистической партии расценивали уйгуров как группу, представляющую «политическую угрозу», что способствовало минимизации их властных полномочий (Bovingdon 2010, 47).
Собственно говоря, уже весной 1953 г. создавались более мелкие региональные автономные округа и уезды. «Разделение [Восточного Туркестана] на ряд более мелких автономий было гениальным административным ходом» (там же, 44). Эта интеграционная политика Коммунистической партии Китая (КПК) продвигала и выдвигала на первый план идею о том, что Восточный Туркестан является домом для тринадцати этнических групп: «…уравновешивая подавляющий политический и демографический вес уйгуров» (там же, 45). Кроме того, партия хотела дистанцироваться от ассимиляционной политики Китайской националистической партии (ГМД) и противодействовать сепаратистским настроениям в некоторых ключевых приграничных регионах (Millward 2007, 243).
В данной политике наблюдается значительный дисбаланс в распределении власти, особенно в субавтономных областях, где титульная этническая группа имеет непропорционально высокое представительство. В частности, в пятнадцати из двадцати семи субавтономных округов титульная этническая группа составляет менее половины населения (Bovingdon 2010, 46). Это создает неравное распределение власти между уйгурами и другими этническими группами. Например, «в 2004 году около 48 000 монголов номинально пользовались автономией в регионе, где проживало более 370 000 уйгуров (и, в связи с устойчивой иммиграцией, более 660 000 ханьцев)» (там же).
Что касается уйгурского языка, то коммунистический режим оказал значительное влияние на его письменность. В 1956 году, следуя примеру Советского Союза, китайское руководство ввело кириллицу для уйгурского языка, несмотря на то что у уйгуров уже была арабская письменность. Эта мера, в значительной степени, была направлена на ослабление исламских связей уйгуров. В 1960 году, после ухудшения советско-китайских отношений, кириллица была заменена латинским алфавитом с несколькими специальными буквами, что можно рассматривать как «пиньиньизацию», а не романизацию уйгурского языка (Millward 2007, 236). Одной из целей этой реформы было содействие «слиянию и ассимиляции» меньшинств, что позволило бы легче вводить китайскую лексику в тюркские языки (там же). Важно также отметить, что во время Культурной революции языки меньшинств не преподавались более десяти лет (Dwyer 2005, 36), и, например, уйгурский язык не обучали в Кашгаре (Jarring 1986, 157).
В 1984 году, в период относительно мягкой политики меньшинств, китайские власти восстановили слегка измененную арабскую письменность для уйгурского языка. Эти реформы письменности в КНР можно рассматривать как индикаторы общей ситуации в Восточном Туркестане, где каждое изменение в письменности отражает превратности политики меньшинства КНР по отношению к тюркским народам в Восточном Туркестане (Millward 2007, 237).
Культурная революция (1957-1978 гг.) ознаменовала собой резкие сдвиги в политике Китая, а также в Восточном Туркестане, что вызвало хаос в социальной и культурной сферах. В Восточном Туркестане наблюдался всплеск культурной нетерпимости внутри Коммунистической партии Китая, распространяющейся вовне на различные этнически тюркские группы, где различия между тюркскими народами и большинством ханьцев считались девиантными, поэтому проект культурной гомогенизации получил дополнительный импульс с целью достижения ассимиляции. Стоит отметить, что Восточный Туркестан понес больший ущерб в своей экономике, чем другие части Китая во время Культурной революции (Millward & Tursun 2004, 96).
После раскола в китайско-советских отношениях в конце 1950-х годов КПК провела чистку многих не-ханьских политических элит в Восточном Туркестане, большинство из которых оказались в трудовых лагерях для реформаторов мышления (Millward & Tursun 2004, 93). Мы можем провести параллели между реформаторскими трудовыми лагерями и сегодняшними лагерями для интернированных в Восточном Туркестане, где официальный девиз последних перекликается с девизом первых: «трансформация через образование» (教育转化). За десятилетие после 1965 г. представительство уйгуров в правительстве резко сократилось примерно на 25%, а в 1969 г. представительство в региональном правительстве отсутствовало (там же, 97).
Поддерживаемая «левой» культурной программой, нетерпимость и активные атаки на некитайскую культуру были распространены в столичном регионе, а также в некоторых небольших городах и деревнях, где проживало большинство уйгуров. «Различие … стало признаком отсталости» (Bovingdon 2010, 51). Например, некоторые неофициальные источники утверждают, что имели место случаи сожжения Корана и других священных текстов, религиозные старейшины подвергались унижению на улицах, некоторые значимые исламские объекты закрывались или осквернялись, свиньи намеренно содержались в мечетях, длинные волосы уйгурских девушек подстригались коротко, а традиционная одежда была запрещена (Millward & Tursun 2004, 97). Приспешники Мао, или красные гвардейцы, заставляли многих мусульман разводить свиней с целью достижения «быстрой и полной ассимиляции» (Bovingdon 2010, 52). Эта кампания культурного конформизма Коммунистической партии Китая оказывала наибольшее влияние на уйгуров и другие неханьские народы во время культурной революции, представляя собой не только нападение на их социальную сферу, но и на их идентичность.
Неудивительно, что большое количество этнически тюркских народов в Восточном Туркестане, как и в других частях Китая, испытывало негодование по поводу разгула Маоистской Культурной революции, что оттолкнуло значительную часть населения и вынудило Коммунистическую партию Китая пересмотреть свою интеграционную политику после её завершения. Некоторые изменения были отражены в реформах Дэн Сяопина (1978-1988 гг.), которые создали давно назревшую временную передышку как для экономики, так и для этнических культурных практик.
Временное ослабление контроля над этническими традициями, в действительности, было экономически обосновано и способствовало развитию туризма в Восточном Туркестане и других регионах национальных меньшинств по всему Китаю. Различным этническим группам было разрешено практиковать свои культурные традиции, что, в свою очередь, способствовало развитию туристической индустрии (Gladney 2004, 110). В этот период также были сняты ограничения на исламскую практику: мечети вновь открылись, а поездки в другие исламские страны стали возможны.
1980-е годы были отнюдь не мирным периодом в Восточном Туркестане. Наблюдались признаки социального недовольства, сопровождающегося этническими и межэтническими конфликтами. Проходили студенческие демонстрации, на которых требовали «свободы», «демократии» и «равенства между национальностями». Их лозунги также затрагивали вопросы ядерных испытаний в Лоп-Нор (озабоченность по поводу здоровья местного тюркского населения), притока ханьцев в Восточный Туркестан и политики ограничения рождаемости (планирования семьи), направленной на меньшинства.
Алексис-Мартин (2019, 152-53) в своей работе утверждает, что «колонизация уйгурских земель и их использование КНР для ядерных испытаний представляют собой форму ядерного империализма, которая рассматривает жизнь уйгуров как ничтожную». Что касается ограничения роста населения, то уйгуры и другие неханьские меньшинства изначально были освобождены от политики контроля рождаемости КПК, введенной в начале 1980-х годов, однако постепенно эта политика начала распространяться и на них, начиная с 1987 года с уйгурских партийных чиновников, а затем применялась ко всему населению меньшинств в течение нескольких лет (Bovingdon 2010, 58-59).
«Эти проблемы отражают не религиозные заботы как таковые, а скорее озабоченность по поводу обращения с уйгурами и их выживания как нации» (Millward 2007, 282). Кроме того, Милвард (там же, 281) сообщает, что «движения за права или независимость в двадцатом веке в [Восточном Туркестане] не укладываются в общепринятое представление о ‘исламском джихаде’».
Период с 1991 по 2005 год стал свидетелем возобновления оппозиции этнических меньшинств к китайскому режиму в Восточном Туркестане, что сопровождалось привычной реакцией Коммунистической партии: «открытым подавлением, кооптацией, миграцией ханьцев и экономическим развитием» (Clarke 2007, 283).
Демонстрации, беспорядки и отдельные инциденты с применением насилия продолжались и в 1990-х годах в Восточном Туркестане. Два ключевых события в начале 1990-х годов привели к изменению политики Коммунистической партии Китая в отношении меньшинств, сделав её менее терпимой по сравнению с предыдущей политикой 1980-х годов. Эти события включали восстание в Барене в апреле 1990 года и распад Советского Союза в 1991 году. Оба события получили широкую народную поддержку, а одним из мотивов восстания была политика контроля рождаемости КПК, направленная против уйгуров и других семей меньшинств (Millward 2007, 327). Кроме того, существовали и другие способствующие факторы, такие как ядерные испытания и экспорт ресурсов в другие части Китая. Распад Советского Союза стал для Коммунистической партии одновременно шоком и экономической возможностью.
Бывшие советские республики, такие как Казахстан и Узбекистан, чьи народы исторически и лингвистически тесно связаны с тюркскими народами Восточного Туркестана, обрели независимость после распада Советского Союза. Эта недавно обретенная независимость от имперской власти заставляла Коммунистическую партию беспокоиться, поскольку Восточный Туркестан мог двигаться к независимости от своей имперской власти, то есть Китая.
Религиозная деятельность в очередной раз была ограничена, тщательно проверялась, а в некоторых случаях и запрещалась китайским режимом. Имамы должны были получить одобрение государства, только те, кто считался патриотом и политически связанным с КПК, могли сохранить свои должности, и эта практика продолжается до сих пор в Восточном Туркестане. Медресе были закрыты, а все частные занятия по изучению религии были запрещены и обозначены как незаконная религиозная деятельность (Bovingdon 2010, 67). В 1991 году 10% из примерно 25000 исламских священнослужителей не смогли сохранить свои должности после проверки, проведенной коммунистическими чиновниками (Harris 1993: 120-21, цит. Bovingdon 2010, 66). Строительство многих мечетей было остановлено, а многие существующие мечети в то время были закрыты, поскольку репрессии против ислама продолжались. Несмотря на то, что свобода веры закреплена конституцией, партийные кадры и студенты продолжают невольно отказываться от своего права на веру.
В период 1991-1995 гг. КПК вновь утвердила свои ключевые элементы интеграционной политики, например, продолжая поддерживать и поощрять ханьскую миграцию, а также приняв стратегию экономического развития, целью которой было дальнейшее включение Восточного Туркестана в состав собственно Китая, и одновременное установление связей с другими государствами Центральной Азии через торговлю (Clarke 2007, 283; Millward 2007, 289).
В 1995 и 1996 годах в Восточном Туркестане произошло значительное количество социальных беспорядков и протестов, после которых последовала трехкратная политическая реакция: (i) 19 марта 1996 года был выпущен внутренний документ КПК, в котором содержалось предупреждение и ужесточение мер по контролю различных этнических и религиозных активностей, а также «иностранных сил» (например, иностранных сепаратистских организаций); (ii) 26 апреля 1996 года был заключен двусторонний договор о безопасности, подписанный Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Россией; (iii) была провозглашена первая кампания «Ударить сильно» (严打 yándǎ), направленная на подавление преступности и «сепаратизма и незаконной религиозной деятельности».
Целью этой кампании было не общее подавление преступности, а именно подавление неофициальных политических организаций и религии, нацеленное на политически активных сепаратистов в Восточном Туркестане, Тибете и Внутренней Монголии, при этом сепаратизм связывался с «незаконной религиозной деятельностью» (Dillon 2019, 58-59). По оценкам, ежегодно в Восточном Туркестане полиция задерживает тысячи людей за «незаконную религиозную деятельность», согласно местным СМИ, которые тщательно мониторятся Human Rights Watch, в то время как официальная статистика редко публикуется (HRW 2005, 6). Тактики, с помощью которых китайский режим стремится установить полный контроль над системой убеждений уйгуров, носят карательный характер, что является шагом за пределы подавления; они, по сути, направлены на переосмысление религиозной идентичности уйгуров, чтобы она гармонично вписывалась в государственный нарратив (там же, 7).
Коммунистическая партия Китая ставила перед собой несколько целей в рамках своей второй контрреакции, в том числе подавление политической диссидентской активности уйгуров в государствах Центральной Азии, и ей это удалось. Казахстан и Кыргызстан начали экстрадировать уйгурских подозреваемых в Китай по запросу Пекина, оставив действующими только уйгурские культурные организации в рамках законодательства под государственным контролем, при этом запрещая все остальные уйгурские политические организации (Millward 2007, 337).
Стоит подчеркнуть, что некоторые из этих разыскиваемых уйгурских подозреваемых были казнены по возвращении в Китай (Becquelin 2004a, 41). Последняя упомянутая контрреакция, кампания «Ударить сильно» в 1996 году, привела к нескольким тысячам арестов в Восточном Туркестане, не из-за внезапного роста преступности, а именно из-за этой кампании, поскольку существовал «политический интерес к скорости и количеству арестов и осуждений» (Millward 2007, 331).
В феврале 1997 г. в городе Кульджа на севере Восточного Туркестана при народной поддержке вспыхнуло второе крупное восстание, широко известное как восстание Кульджа и резня уйгуров (см. Millward 2007, 331-334; Dillon 2019, 67-70). Это восстание стало еще одним серьезным вызовом китайскому правлению после восстания Барена в 1990 году. «[Это] явно было результатом цепи событий, которые начались гораздо раньше и были симптомами как репрессивных методов правительства, так и раздраженной реакции уйгуров» (Bovingdon 2010, 125). «Репрессии в масштабах всего региона, последовавшие за событиями февраля 1997 г., стали почти постоянной чертой жизни по всему [Восточному Туркестану]» (Millward 2007, 334).
В период с 1980 по 1997 гг. было много протестов и демонстраций, вызванных недовольством и несправедливостью среди уйгуров против китайского правления в Восточном Туркестане, в ходе которых китайский режим лишь четыре раза уступал вопросам, поднятым в ходе протестов (см. Bovingdon 2010: 128-29). Во всех остальных задокументированных случаях реакция режима была либо оглушительной, либо негативно подавляющей. Вместо того, чтобы прислушиваться к общественному протесту и соответствующим образом менять свою политику, КПК часто отвечала более интенсивной репрессивной и интеграционной политикой (например, все более ограничивая религиозную деятельность) в Восточном Туркестане (см. Bovingdon 2010, 129). Уйгуры не имеют права публично выражать свое недовольство, если они это сделают, их ждет суровое наказание со стороны режима. На самом деле, режим «приравнивает любое выражение недовольства (buman qingxu), даже метафорическое или ироническое, к сепаратистским идеям (fenlie sixiang)» (Becquelin 2004a, 44).
Период с 1996 по 2004 год ознаменовался как минимум одной масштабной политической кампанией в год, каждая из которых приводила к сотням арестов, судебные процессы при этом проходили спешно, что в свою очередь выливало в ускоренные осуждения на основе принципа «двух основ» КПК: «основная истина» и «основные доказательства» (там же, 41).
В последующие восемь лет, начиная с 1997 г., в Восточном Туркестане не было ни массовых социальных волнений, ни масштабных демонстраций. Несмотря на относительное затишье, руководство Коммунистической партии не могло игнорировать серьезность конфликтов, разразившихся в течение последнего десятилетия ХХ века. Единственным жизнеспособным решением/политикой, которую могла поддержать КПК, было экономическое развитие Восточного Туркестана. Великое развитие западных регионов (西部大开发xībù dà kāifā) как политика первоначально возникла в 1999 году и было реализован в марте 2000 г. К таким западным регионам относятся Восточный Туркестан, Тибет, Внутренняя Монголия, а также другие провинции, которые географически расположены на западе Китая.
Программа «Развивай Запад» — то, что Беккелен (2004b) называет «поэтапным развитием» — предполагает передачу оставшихся ресурсов развития из прибрежных провинций Китая в его западные регионы и провинции. Хотя эта экономически ориентированная программа развития КПК на поверхностном уровне кажется разумной (т.е. борьба с бедностью), поднимаемые ею вопросы вызывают озабоченность. Этот амбициозный проект предполагает значительный трансфер ресурсов, включая трудовые ресурсы, что вызывает опасения по поводу дальнейшего размывания этнического состава в районах меньшинств в результате масштабной программы переселения ханьцев (Dillon 2019, 75).
Приток ханьской миграции в Восточный Туркестан продолжается с момента основания КНР. Население ханьцев в Восточном Туркестане выросло на удивительные 31,6% в период с 1990 по 2000 год, что почти в два раза превышает темпы роста неханьских групп (Bovingdon 2010, 57). «Многие аналитики пришли к выводу, что официально поддерживаемая миграция ханьцев является основным инструментом политики Китая по ассимиляции пограничных регионов» (Gladney 2004, 112).
Собственно говоря, Ли Дэчжу (2000, цит. по Becquelin 2004b: 373-374), глава Государственной комиссии по делам национальностей КНР, прямо заявил в своих работах, что правительство активно участвует в миграции ханьцев в районы проживания этнических меньшинств с целью укрепления национального единства, политику, которую он назвал «гомогенизацией» (凝聚化níngjùhuà). «Эта скрытая повестка дня усугубила конфликт между ханьцами и неханьцами и не привела к той стабильности, которую она должна была создать» (Dillon 2019, 81).
Режим правительства Китая практикует политику предпочтения в отношении ханьских мигрантов, привлекая их государственными субсидиями и привлекательной политикой переселения в Восточный Туркестан, что вызывает еще большее недовольство среди уйгурского населения. Например, выпускникам колледжей из Китая предлагаются субсидии за иммиграцию в Восточный Туркестан, а высшие партийные чиновники осуществляют вербовочные поездки (Bovingdon 2010, 57).
Политика Коммунистической партии предполагает, что если экономическое развитие Восточного Туркестана достигнет уровня прибрежных провинций Восточного Китая, то межэтническая напряженность и этнический сепаратизм исчезнут или, по крайней мере, станут менее значительными благодаря развитой экономике. Однако китайская политика «Развивай Запад» не затрагивает «культурную и этническую надстройку» (Dillon 2019, 88).
Источник: «The Persecution of Uyghurs in East Turkistan» Authors: Erkin Kainat; Adrian Zenz; Adiljan Abdurihim
Ссылка на источник: https://www.utjd.org/register/wp-content/uploads/2020/09/the_persecution_of_uyghurs_hard_copy.pdf