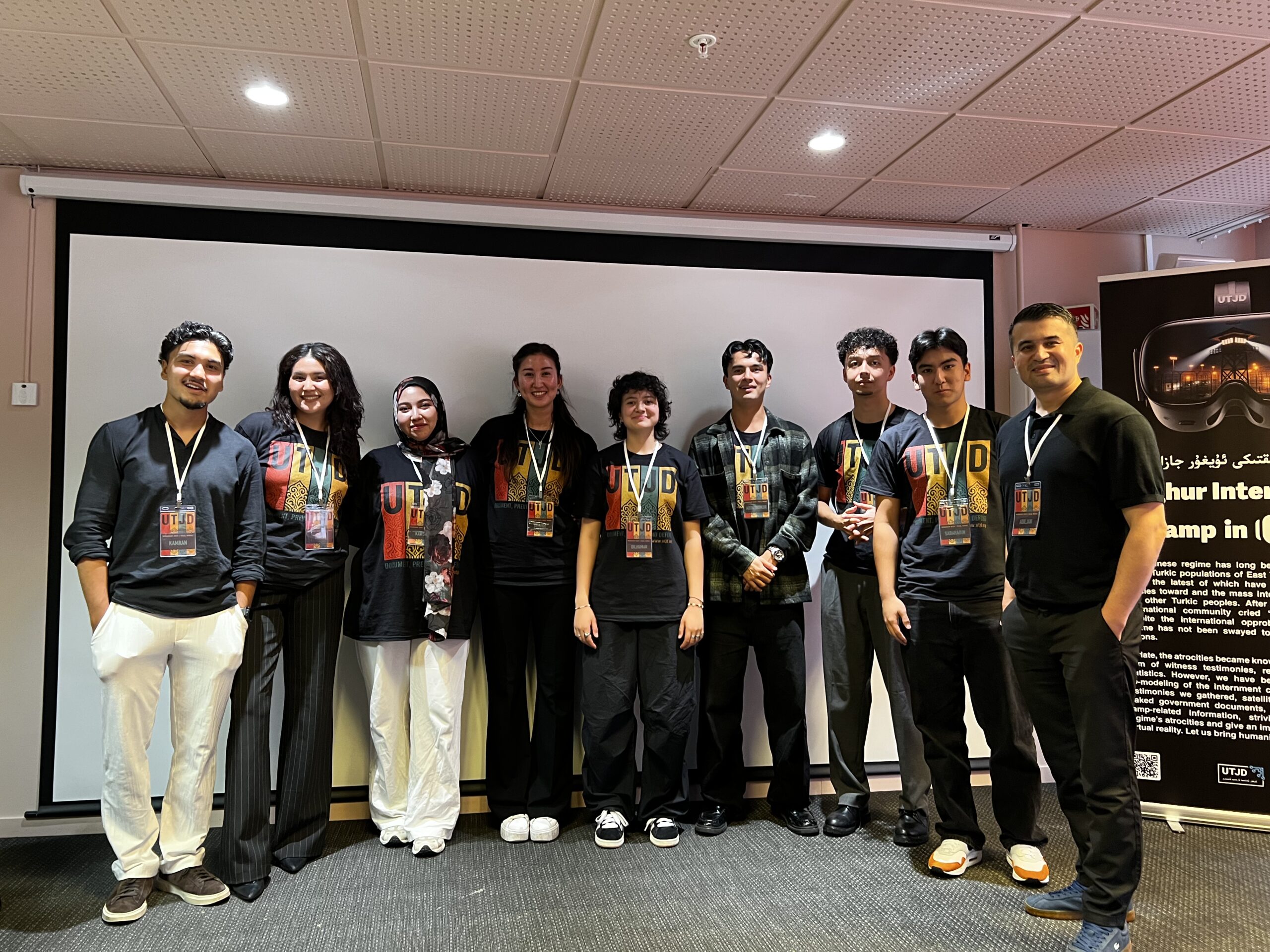11 сентября 2001 г. мир стал свидетелем самых масштабных террористических атак в истории США. После них прошло много лет, а их последствия до сих пор остро ощущаются во всем мире. Это был также поворотный момент, который продолжал влиять как на внутреннюю, так и на международную политику во многих регионах мира. Теракты 11 сентября 2001 года, а также последующие террористические акты в Европе и Индонезии, связанные с политическим исламом, способствовали формированию глобального восприятия, согласно которому ислам ассоциируется с терроризмом. В результате, мусульмане стали целевой группой, особенно подверженной негативному отношению и дискриминации.
После терактов 11 сентября 2001 года администрация Буша объявила «войну с терроризмом». В течение трех месяцев после этих событий Китай официально выпустил документ под названием «Террористическая деятельность, совершенная организациями Восточного Туркестана и их связи с Усамой бен Ладеном и талибами». В этом документе утверждалось, что существует разветвленная сеть уйгурских террористов, представляющих серьезную угрозу безопасности как Китая, так и всего мира. 21 января 2002 года Китай опубликовал еще один документ под названием «Террористические силы Восточного Туркестана не могут уйти безнаказанно». В этом документе вся предыдущая уйгурская оппозиция в Восточном Туркестане была приписана к террористическим организациям, связанным с глобальной сетью террористических групп. Кроме того, в последнем документе обвинялись почти все уйгурские правозащитные и самоуправляемые группы в том, что они якобы финансируются непосредственно Усамой бен Ладеном и «Аль-Каидой» (Roberts 2018, 232).
Сразу после терактов 11 сентября 2001 года произошел значительный сдвиг в официальном дискурсе Коммунистической партии Китая (КПК) относительно уйгурской оппозиции. Ранее этническое недовольство в Восточном Туркестане скрывалось, тогда как после терактов началась явная ассоциация уйгурской оппозиции с терроризмом (Becquelin 2004a, 39). Термины «Восточный Туркестан» и «терроризм» ранее использовались редко в официальных документах КПК (Millward 2007, 339). Этот сдвиг размыл грань между инакомыслием и исламом. Например, восстание в Барене в 1990 году, протест в Хотане в 1995 году и демонстрация в Кульдже в 1997 году, которые ранее рассматривались как проявления «раскола», позже были переименованы в «терроризм» в статье 2004 года (Zhu Jun 2004, цит. Bovingdon 2010, 120). Тем не менее, не было представлено доказательств существования активных уйгурских террористических группировок ни внутри Китая, ни за его пределами. Большинство событий уйгурской оппозиции в 1990-х годах, такие как демонстрации, начинались как мирные протесты и перерастали в насилие лишь после вмешательства полиции, использовавшей репрессивные методы. Такие действия вряд ли можно считать терроризмом, независимо от того, как определяется этот термин (Roberts 2018, 233). Иными словами, в начале 2000-х годов в Восточном Туркестане не существовало реальной террористической угрозы (там же, 240). Более того, это было относительно мирное время в регионе, когда китайское руководство выдвинуло вышеупомянутые обвинения.
Китайский режим настойчиво публиковал документы, обвиняющие предполагаемую уйгурскую террористическую сеть в том, что она представляет угрозу безопасности как Китая, так и всего мира. В сентябре 2002 года как США, так и ООН официально признали малоизвестную уйгурскую группировку «Исламское движение Восточного Туркестана» (ИДВТ) террористической организацией, что привело к международным санкциям против нее. Это официальное признание предоставило Китаю легитимность для внедрения различных контртеррористических мер, способствующих дальнейшему подавлению уйгурского народа в Восточном Туркестане. Важно отметить, что после 2001 года не существовало достоверных источников информации о деятельности ИДВТ, которые бы подтверждали её потенциал и опорную базу (Roberts 2012, 19). Другими словами, у ИДВТ было мало возможностей для организации террористических атак против Китая в контексте событий 11 сентября.
Некоторые доказательства существования ИДВТ стали появляться только в 2006 году. В 2008 году в Вазиристане была сформирована новая группировка, состоящая из нескольких уйгуров, — Исламская партия Туркестана (ИПТ). Однако после 2013 года группировка значительно увеличилась в Сирии, поскольку многие уйгуры, спасаясь от репрессий в Восточном Туркестане и чувствуя угрозу своей уйгурской идентичности со стороны китайского режима, стали уязвимой мишенью для вербовки боевиков (Roberts 2020; Roberts 2018, 252). На момент написания не было никаких доказательств насильственных нападений, совершенных ИДВТ в Восточном Туркестане или в других частях Китая (Roberts 2020). Тем не менее, группа сняла ряд видеороликов, некоторые из которых явно угрожали летним Олимпийским играм 2008 года в Пекине, что предоставило китайскому правительству основание для продолжения контртеррористических мер против уйгурского инакомыслия (Roberts 2018, 241; Roberts 2020).
В ответ на предполагаемую угрозу со стороны уйгурских террористов китайский режим в декабре 2001 года внес поправки в свой уголовно-правовой кодекс, добавив к существующей категории «Угроза общественной безопасности» новую категорию — «террористические преступления», предусматривающую более суровые наказания. Amnesty International (2002, 4-5) отметила, что новые преступления были определены расплывчато, что ставит под сомнение справедливость судебного преследования. Эти поправки, как и многие другие китайские законы, стремятся к максимальной неопределенности, что позволяет использовать их в качестве всеобъемлющей меры для превентивного заключения людей в тюрьму до совершения каких-либо преступлений. Это создало основу для будущей «крайне субъективной и продолжающейся охоты на террористов» в Восточном Туркестане (Roberts 2018, 238). «Глобальная война с терроризмом» продемонстрировала четкую дихотомию между глобальным терроризмом и исламским экстремизмом, что стало стимулом и оправданием для продолжающегося преследования уйгуров в Китае. В рамках этой концепции китайский режим приравнивает несанкционированную религиозную деятельность к «экстремизму». С тех пор Пекин продолжает использовать этот новый риторический арсенал для подавления уйгуров в Восточном Туркестане.
Следует отметить, что ислам является лишь одним из нескольких маркеров уйгурской идентичности, и его роль может варьироваться в зависимости от обстоятельств, в которых находятся уйгуры. Исходя из этого, можно предположить, что поддержка исламской фундаменталистской группы среди уйгуров будет ограниченной (Gladney 2004, 109). Наиболее очевидным и мощным объединяющим маркером уйгурской идентичности является их совместная борьба и страдания под правлением КНР, обусловленные коллективной ассимиляционной и интеграционной политикой КПК.
16 июля 2001 года в Положение об управлении религиозными делами были внесены изменения. Например, в статье 1 слова «защита нормальной религиозной деятельности» были заменены на «регулирование религиозной деятельности в соответствии с законом» и «руководство религией для адаптации к социалистическому обществу». Требования, ранее предъявляемые к духовенству в статье 8 Регламента 1994 года, были распространены на «всех граждан, исповедующих религию»: лояльность государству стала приоритетом, а осуществление религиозных обрядов теперь «обусловлено поддержкой правительства и партийных лидеров» (HRW 2005, 37).
С октября 2001 года репрессии против различных религиозных деятелей значительно усилились. В начале ноября того же года в городе Кашгаре было закрыто 13 «нелегальных» религиозных центров, и арестовано более 50 верующих. Также было произведено множество арестов по обвинениям, связанным с «терроризмом», и многие из задержанных, по предположениям, были приговорены к смертной казни (Amnesty International 2002, 20-27). Кроме того, на всей территории Восточного Туркестана были введены ограничения на проведение религиозных обрядов и доступ к несанкционированной информации. В рамках этой общерегиональной кампании в течение двух месяцев, начиная с сентября 2001 года, в Урумчи было арестовано около 150 человек за участие в «незаконной» религиозной деятельности и «терроризме». Также поступали сообщения об арестах в других частях Восточного Туркестана (там же, 15).
Официальные ограничения и подавление религиозных прав и деятельности распространились на весь Восточный Туркестан, затронув многие аспекты повседневной жизни уйгуров. Режим диктует, как должны действовать религиозные учреждения (например, мечети), включая процесс выбора священнослужителей, использование «правильной» версии Корана, место проведения религиозных собраний и содержание проповедей (HRW 2005, 3). Уйгурским правительственным чиновникам (членам Коммунистической партии) и несовершеннолетним (школьникам) запрещено соблюдать пост в Рамадан. Кроме того, власти отговаривают других мусульман, работающих в различных государственных секторах (например, в школах и больницах), от соблюдения религиозных обрядов в течение священного месяца Рамадан (Amnesty International 2002, 23). Более того, уйгурские священнослужители (имамы) находятся под постоянным наблюдением государства, и их идеологическое состояние должно соответствовать идеологическому состоянию Коммунистической партии. Для обеспечения этой идеологической согласованности режим проводит «кампании религиозного обучения» и «кампании политического перевоспитания». Кампании 2001 и 2002 годов систематизировали идеологический контроль над священнослужителями (HRW 2005, 50).
Human Rights Watch (HRW 2005, 69-70) отмечает, что силы безопасности регулярно проводили обыски в кварталах и деревнях, проверяя дома на наличие удостоверений личности и домовых книжек, а также допрашивая жителей о местонахождении отсутствующих членов семьи. В ходе этих обысков искались «незаконные» публикации, такие как Коран, не одобренный правительством. Лица, которых силовики сочли проблемными, доставлялись на неизвестные объекты для дальнейшего допроса. Эти обыски часто сопровождались насилием, и члены семьи или родственники задержанных не могли узнать, что произошло с их близкими после задержания. Некоторые задержанные подвергались длительным срокам заключения без предъявления официальных обвинений, другие были осуждены, направлены на «перевоспитание» в трудовые лагеря, а некоторые были освобождены.
Как отмечается в отчете HRW, «независимая религиозная деятельность или инакомыслие иногда произвольно приравнивается к нарушению государственной безопасности, что является серьезным преступлением в Китае и часто преследуется по закону» (HRW 2005, 3). Научная статья из сборника, выпущенного Министерством юстиции Китая и ставшего доступным Human Rights Watch, показывает, что 9,2% всех осужденных уйгуров в 2001 году были заключены в тюрьму за совершение «преступлений против государственной безопасности» (там же, 72).
Можно провести параллели между антисепаратистскими кампаниями 1990-х годов и контртеррористическими мерами, введёнными сразу после 11 сентября 2001 года. Последние, имея международно признанную направленность как «террористическая угроза», способствовали усилению репрессивного подхода к угнетению всего уйгурского населения. Для внешних наблюдателей это выглядело как обоснованный курс действий, тогда как для китайского режима это представляло собой продолжение репрессивной политики, упорядоченной через нарратив «Глобальной войны с терроризмом». Преследование уйгуров продолжалось и в последующие годы.
В январе 2002 года кампании китайского режима по выравниванию идеологии также распространились на уйгурскую культурную сферу, включая художников, писателей, поэтов и историков. Председатель региона заявил, что «все, кто открыто пропагандирует сепаратизм, прикрываясь искусством», будут преследоваться по закону (HRW 2002, 11; Amnesty International 2002, 24-25).
В июне 2002 года китайский режим организовал масштабное сожжение книг в Кашгаре, в ходе которого было уничтожено множество книг, включая около 128 экземпляров «Краткой истории гуннов и древней литературы» и 32 320 экземпляров «Древнеуйгурского мастерства». Последний труд содержал описание старинных методов ковроткачества, шелкоткачества, изготовления бумаги и столярного дела. Это сожжение книг было частью государственной программы по уничтожению уйгурской культуры и явно представляло собой ее оскорбление. Публичное сожжение книг, скорее всего, не было единичным случаем. Оно было частью более широкой кампании по «уничтожению порнографии и политических публикаций» (扫黄击政 sǎohuáng jīzhèng), которая включала массовое уничтожение «незаконных» литературных, исторических и религиозных изданий. Власти могли открыто уничтожать уйгурские литературные и культурные произведения, оправдывая свои действия якобы соблюдением закона (Becquelin 2004a, 45).
Китайский режим продолжил свои усилия по получению международного одобрения и поддержки, выпустив второй официальный документ в декабре 2003 года под заголовком «Террористические группы и отдельные лица Восточного Туркестана». В этом документе снова утверждается, что уйгурская оппозиция во всех своих проявлениях связана с международным радикальным исламским терроризмом. Этот документ в значительной степени повторяет содержание первого официального документа, опубликованного в январе 2002 года, который также связывал уйгурскую оппозицию с международным терроризмом.
В 2002 и 2003 годах китайское государство активизировало свою кампанию «Бей сильно», запустив инициативу «Бей сильно, под высоким давлением», направленную на борьбу с так называемыми «тремя силами» – сепаратизмом, терроризмом и религиозным экстремизмом. Согласно официальным сообщениям СМИ, в январе 2004 года сообщалось о множественных арестах «террористов» и «сепаратистов» за последние 12 месяцев. Однако не поступало информации о начатых судебных процессах по этим делам. В сентябре 2004 года глава Коммунистической партии Восточного Туркестана Ван Лэцюань сообщил, что за первые восемь месяцев 2004 года власти предъявили обвинения 22 группам и отдельным лицам в совершении предполагаемых преступлений «терроризма» и «сепаратизма» (HRW 2005, 69).
Источник: «The Persecution of Uyghurs in East Turkistan» Authors: Erkin Kainat; Adrian Zenz; Adiljan Abdurihim
Ссылка на источник: https://www.utjd.org/register/wp-content/uploads/2020/09/the_persecution_of_uyghurs_hard_copy.pdf